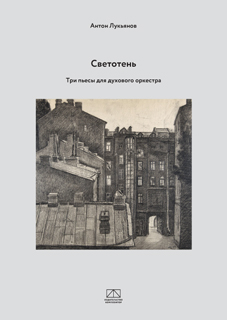О произведении
Сочинение Антона Лукьянова «Светотень» для духового оркестра было написано в 2024-м году. Об истории создания автор рассказывает так: «Одни произведения возникают исподволь, и ты постепенно, порой годами, проясняешь для себя их контуры. Другие же создаются непосредственно следом за сильными переживаниями или потрясениями. Именно так произошло с этим опусом, когда эмоциональным материалом стали жизненные и музыкальные события. Три пьесы не образуют целостного цикла — в том смысле, что в них нет цементирующей интонационной основы или каких-либо других объединяющих или скрепляющих конструкцию элементов: каждая из них является вполне самостоятельной и может быть исполнена отдельно от других». Эта концепция эмоциональной и структурной завершенности номеров подтверждается и составом оркестра: во всех он различен по инструментальному наполнению, подчёркивая характерные индивидуальные образные и колористические особенности.
Тем не менее общая идея произведения существует и, как отмечает композитор, связана она с вектором движения от тёмного к светлому, причём обрисовалось это направление сразу — в качестве первичного импульса появился «довольно весёлый» «Танец» (№ 3), а затем уже к нему противовесом присоединился «более сумрачный» «Ноктюрн» (№ 1). Центральный номер, давший название опусу, возник последним и, сообразно названию и содержанию, занял пограничное положение. «В целом сочинение посвящено тому неопределённому времени, которое можно было бы назвать “ни день, ни ночь”. Так, например, иногда трудно датировать изоморфное сумеречное пространство — одинаковое непосредственно перед восходом и сразу после заката солнца. Но это не только природное явление — и жизнь устроена подобным образом», — добавляет автор.
«Ноктюрн» написан в сложной трёхчастной форме с элементами сонатности и зеркальности. Основу первого раздела составляют разорванные сумрачные негромкие, как бы ниоткуда возникающие, реплики медных духовых, постепенно скрепляющиеся имитационными построениями в целостную фактуру. Контрастом к подобной образности и форме изложения становится середина, представленная просветлённой темой у деревянных и завершающаяся интроспективной заключительной мелодией-символом у колокольчиков. В репризе заявленные сферы синтезируются разными путями — передачей речитативного элемента деревянным и контрапунктическим сочетанием его с просветлённой темой. Мелодия колокольчиков менее всего
подвержена переменам, звуча одинаково и в среднем разделе, и в заключении номера. В целом обрамлённый её проведениями фрагмент может составлять ещё одну локально и стихийно возникающую фантазийно-репризную форму. «Что-то вроде голоса судьбы», — размышляет композитор об этой теме.
Однако, инструментовка данной пьесы интересна не только с точки зрения формообразования, но и в колористическом отношении. Например, своеобразный «мерцающий» эффект достигается уже в первых тактах, когда при неизменности интонационной структуры мелодический голос аккорда от одной партии корнетов переходит к другой. Отказ же от этого принципа взаимообмена стабилизирует вертикали и разделяет оркестровую ткань на фон и рельеф, расширяя музыкальное пространство и «освобождая» его для мелодической линии. Обращает на себя внимание и мистическая затаённая атмосфера, воспроизводимая «шелестящим» тремолирующим звучанием группы саксофонов в момент изложения материала необычным ансамблем ин-
струментов (гобой, кларнет, труба, валторна). Особый эффект партитуре придаёт неоднократное тихое звучание тромбонов в низком регистре, подчёркивающее выразительные возможности этого инструмента. Проведение же на этом фоне мелодической линии колокольчиков, идущее с тесситурным разрывом, усиливает её «призрачность».
«Светотень» основана на развитии интроспективного элемента «Ноктюрна», запечатлённого на сей раз в фигурационном мотиве деревянных — своеобразном «зерне». Однако форма при этом строится отнюдь не на мотивной работе, а на звуковысотных транспозициях «зерна» и его оркестровых преобразованиях. Последние состоят в перекрашивании сходных по структуре тембро-фактурных элементов, то выходящих на первый план, то выступающих в качестве фона за счет различных приёмов: передачи материала от одной группы к другой, уплотнения звучания путем объединения представителей разных оркестровых групп, сопоставления разряженных и более массивных инструментальных пластов. Контрасты здесь завуалированы и отнесены в основном в средний раздел — это подчёркнутая флейтами просветлённость колорита в его начале и затемнённость массивом медных в заключении. «Зыбь настроений, мыслей, неосознанных стремлений, звучащих в пространстве», — так комментирует наполнение этой части автор.
Юмористический заголовок третьей пьесы возник из-за особенностей проведения темы, которая уже в первом изложении отдана басам (как правило, в сочинениях для духового оркестра так называемое «соло басов» используется для второй темы). Юмор присутствует и в особенностях музыкального языка в виде усиленной мажорности некоторых построений, «навязчивых» кружениях деревянных, «гармошечных» кляксах, сознательном «несбалансированном» звучании голосов ряда вертикалей (например, октавные дублировки у саксофонов, валторн, тенора и баритона в сочетании с партией тромбона в тритоновый интервал по отношению к данной мелодической линии). В номере задействован наиболее полный состав духового орке-
стра, поэтому многое в композиции построено на «игре» оркестровыми плотностями, яркими фактурными и динамическими контрастами, на чередовании туттийных и ансамблевых фрагментов. «Танец» написан в сложной трёхчастной форме, с непродолжительной и выдержанной в спокойном тоне серединой. Но это лишь «задумка», короткая остановка, оттеняющая стремительный бег крайних частей. «Не следует считать номер каким-либо выводом по отношению к уже прозвучавшей музыке, — говорит Антон Лукьянов. — Это одно из причудливых настроений и состояний, возникающих в это странное и ни на что не похожее время между светом и тенью».
Вера Зайцева, кандидат искусствоведения
Александр Невдашев
Формат издания 270 х 385 мм